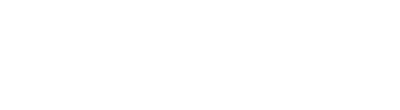В 1777 - 1795 годах в Кирилло-Белозерском монастыре размещалась духовная семинария. О причине и обстоятельствах ее возникновения известно из "Исторического описания монастыря преподобного Кирилла, находящегося в Ново-городской губернии на Беле-озере", написанного, вероятно, в 1778 году. По словам автора описания, у истоков первой кирилловской семинарии стояли архиепископ Вологодский и Белозерский Ириней /Братанович/ и наместник Новгородский, Псковский и Тверской Я. Е. Сиверс. Под учебный корпус семинарии монастырскими властями было выделено двухэтажное каменное здание – «великолепное и обширное столь есть благопристойно, что как по своей обширности, красоте, так и по своему от других монастырских зданий отделению будто бы для Семинарии родилось»1. О семинарии в монастыре писал и П. И. Челищев2. По его словам, количество учащихся доходило до 100 человек. Они жили за свой счет. Лучшим ученикам после окончания семинарии предоставлялось право продолжать обучение в Петербурге. К концу ХУ111 столетия это учебное заведение прекратило свою деятельность. Судьбой Кирилловской семинарии заинтересовался митрополит Амвросий /Подобедов/, много сил и времени уделявший делу духовного просвещения русского народа. По его инициативе, в начале XIX века на территории Кирилло-Белозерского монастыря была вновь открыта семинария. Однако объяснять ее появление только личным желанием митрополита было бы слишком упрощенно. Открытие семинарии в самом удаленном от губернского города уезде, отстоящем от него на 600 км и не связанном с метрополией удовлетворительными путями сообщения, было делом закономерным. Знаменательно, что значительная часть воспитанников второй Кирилловской семинарии стали учителями, инспекторами, начальниками ряда приходских и уездных духовных училищ, в первую очередь, вновь созданных, в которых особенно остро чувствовалась кадровая проблема. К сожалению, Кирилловское духовное заведение с «преподаванием предметов семинарским порядком" попало под жернова духовно-училищной реформы 1808 - 1809 гг. В обширной Новгородской губернии решили оставить одну духовную семинарию в г. Новгороде, а в уездных городах, в том числе и в Кириллове, содержать только уездные духовные училища. Училищной реформе предшествовала определённая подготовка. 29 ноября 1807 года, по инициативе императора Александра Павловича, был учрежден Комитет по усовершенствованию духовных училищ. В докладе, подготовленном Комитетом, говорилось, что существующие в России духовные училища очень разнородны, нет единых подходов в обучении, тесной связи с академическим курсом, наблюдается увлечение латинской словесностью и т. п. Предлагались меры по унификации системы духовных учебных заведений и преподаваемых в них предметов. По мнению Комитета, необходимо основательно изучать языки (древние – греческий и латинский, «славянский и славяно-российский»), древнюю историю, особенно священную и церковную, лучшие образцы духовной словесности и богословие. Духовные училища должны иметь особое управление, независимое от управления гражданских училищ. Для осуществления реформы была создана Комиссия духовных училищ, которая существовала с 1808 по 1839 гг. В неё входили митрополиты Амвросий (Подобедов) и Евгений (Болховитинов). В ходе реформы все епархии разделили на 4 округа по числу духовных академий. Академии руководили деятельностью духовных семинарий, находившихся, как правило, в губернских городах. Семинарии, в свою очередь, осуществляли руководство уездными духовными училищами, которые контролировали деятельность уездных приходских училищ. Важным делом Комиссии была разработка Уставов. Согласно Уставу, «непосредственный надзор за духовными училищами принадлежал семинарским Правлениям». Правление посылало своих членов присутствовать на «испытаниях» (экзаменах), назначало из духовенства ревизоров, проверявших «училищную жизнь», рассматривало отчеты, назначало и увольняло учителей, то есть ведало всеми вопросами «учебной, воспитательной и экономической частей». В духовных училищах первоначально не было Правления. Во главе их стоял ректор, который назначался академическим Правлением по представлению семинарского с согласия епархиального архиерея. Отставка ректора происходила тоже только по определению академического Правления. Ректор принимал учителей по направлению семинарского Правления, увольнял их в случае небрежного отношения к работе или негативного поведения тоже с согласия Правления. Он же проводил экзамены в училище, подписывал и выдавал свидетельства, представлял отчеты в семинарию, всесторонне заботился о благоустройстве училища. Учителя в духовном училище должны были «заменять ученикам родителей», «возбуждать в учащихся почтение, любовь, сыновний страх», быть терпеливыми к детям, следить за поведением учащихся в классе. Вне класса за поведением воспитанников следил инспектор училища, который назначался на должность по усмотрению ректора. Инспектор принимал участие во всех делах училища и опирался в своей работе на старших воспитанников. В уездное духовное училище принимали детей, окончивших, как правило, приходское училище, куда они поступали в возрасте 7 – 8 лет. Приходское училище по отношению к уездному было как подготовительное. Духовные училища находились в ведении епархиального архиерея. В 1801 – 1818 гг. о духовном просвещении в Новгородской епархии заботился Амвросий (Подобедов) митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. В соответствии с предложениями Комитета, в епархии намечалось увеличить количество уездных духовных училищ с семи до десяти и открыть 30 приходских училищ. Но поставленную задачу полностью выполнить не удалось, к 1809 году открылось лишь 18 приходских училищ. После реформы в составе уездного духовного училища были четыре класса: два «высших» и два «низших». В 1 классе должны были изучать российскую и славянскую грамматику, церковный устав и православный катехизис, во 2-м – нотное пение (партесное и обиходное), в 3-м – греческий и латинский языки, арифметику, в 4-м – географию, историю: священную, церковную и всеобщую (гражданскую). Учителя различались по уровню зарплаты. Жалованье учителей «низших» классов было 200 рублей в год, а «высших» – 250. Сиротам и детям из бедных семей учебники выдавали бесплатно, остальные учащиеся их покупали. Процесс обучения был ориентирован на зубрежку. Нерадивых, шаловливых учеников наказывали. Было распространено наказание розгами, иногда ставили коленками на горох. «Согласно проекту реформы духовно-учебных заведений, в Кириллове 9 сентября 1809 г. было открыто уездное училище с двумя отделениями»3. Довольно скоро училище подверглось суровому испытанию. В 1812 году началась война с французами. Она потребовала мобилизации больших материальных и людских резервов. Близость театра военных действий чувствовалась особенно остро в столице Новгородской губернии. От стен Софийского собора уходили на войну и регулярные войска, и ратники народного ополчения. Многие новгородские монастыри выдали свои хоругви отрядам ополчения. Семинаристы пекли хлеб и сушили сухари для армии. Четвертого августа из Новгородской консистории по всем уездным городам был разослан приказ, в котором говорилось, что, согласно определению Синода, «объявить всем причетникам, детям священнослужителей, при отцах находящихся, и семинаристам, не выше риторического класса, что ежели кто пожелает, защищая Отечество, идти в новое ополчение, на которое все призываются, таковых увольнять беспрепятственно». Давалась гарантия, что после окончания военных действий добровольцы «будут возвращены на свои места». Уже в конце сентября добровольцы из числа учащихся духовных заведений появились в Новгороде и в Устюжне, но особенно много их было в Кириллове. Об этом сказано на юбилейном заседании, состоявшемся в Новгородской семинарии 11 октября 1912 года. 28 ноября 1812 года в Правление семинарии поступило донесение протоиерея Соловьева, ректора Кирилловского уездного духовного училища, об ученике Федоре Добрякове, «объявившем желание вступить в Новое ополчение». Через полмесяца в Новгороде получили рапорт, в котором были указаны «пожелавшие в ополчение ученики: Дмитрий Соловьев, Иван Преображенский, Алексей Щеглов». Василий Никольский, Мартемьян Грязновский, Василий Чижевский вступили в ополчение в конце января. Кроме этих добровольцев, зачисленных в ряды ополчения, известны имена трёх кирилловских учеников (Гавриил Бобров, Никита Ухтомский, Василий Крестовский), которые с целью вступления в ополчение добрались до Новгорода, но были «почему-то забракованы начальником ополчения генералом от инфантерии и кавалером Свечкиным». Патриотический порыв кирилловских учащихся был вызван, вероятно, общим героическим настроем, царившим в городе. Кирилло-Белозерский монастырь, в стенах которого размещалось училище, передал на нужды армии и ополчения большое количество серебряной посуды и денежных средств. Жители города Кириллова пожертвовали на вооружение и обмундирование ратников 940 рублей – значительную сумму, если учитывать, что население города в то время около 2 тыс. человек. Были добровольцы идти в ополчение из числа горожан. Нам известно имя только мещанина Алексея Кутвина. О том, что их было немало, говорит такой факт. При роспуске ратников Новгородского ополчения в город Кириллов направлена 8-я команда в количестве 77 человек во главе с прапорщиком Востинским. Эти ратники участвовали в боях под Полоцком, Витебском, Борисовым, Смолянами, Березине, Данциге. Были ли среди них ученики духовного училища или они сражались в отдельном подразделении, нам не известно.